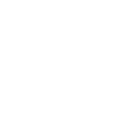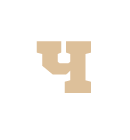Как сталинский режим пришел к 1937 году?
Я бы начал наш разговор с даты 90-летия, которое мы отмечаем в этом году — это 1921 год, год подавления кронштадтского, тамбовского, западносибирского восстания против большевиков. Он был ознаменован и политическим решением, отказом от военного коммунизма и началом перехода к новой экономической политике. Казалось, что правящая от имени пролетариата новая бюрократия из партии коммунистов нашла некий способ сосуществования с крестьянским большинством населения России. Хочется понять ваш взгляд, почему этот компромисс оказался столь непрочным и недолгим?
Николя Верт: Это было, конечно, отступление, Ленин сам его признавал. Вопрос был, насколько он должен быть длительным или нет. В этом смысле Ленин не дал однозначного ответа. Конечно, была фундаментальная проблема — это проблема развития страны, развития экономики, крестьянства и вопрос, конечно, дальнейшей индустриализации страны. Было несколько возможных решений. Мы знаем, был бухаринский путь развития, который предусматривал медленную трансформацию в сторону развития сельского хозяйства. И были более радикальные формы, в том числе Троцкого, Преображенского. Сталин в конце концов взял курс на резкое наступление, революцию сверху так называемую в 29 году.
Михаил Соколов: Господин Блюм, я хотел вас спросить как специалиста по демографии и статистике: что говорят объективные данные об этом 10-летнем периоде, может быть меньше — 8-летнем периоде, насколько он был успешен для развития России и Советского Союза?
Ален Блюм: Я думаю, что все демографические данные, которые можно оценить в этом периоде, и смертности, и рождаемости, показывают, что этот период был очень положительный. Улучшение условий жизни, смертность очень быстро уменьшается, и т рождаемость — это немножко сложнее, но ясно, что это период улучшения и стабилизации социальной ситуации на основе демографических данных.
Михаил Соколов: Как можно понять, чем эта стабильная и успешная ситуация не удовлетворяла большевиков? Они хотели довольно быстро реализовать тот утопический план, который у них был? То есть это было связано с какими-то личными амбициями, у Сталина или людей из его окружения был какой-то проект или были некие объективные причины, которые подталкивали к такой радикализации?
Николя Верт: Я думаю, было и то, и другое. Но тем не менее, по сути дела была проблема модернизации, пути модернизации России в сложном мире, в сложном европейском контексте, начиная особенно с конца 20-х годов. Это, конечно, не оправдывает тот путь, но тем не менее, этот вопрос стоял. И стоял он не только в 20-х годах, а стоял в начале века в других формах. Это был, конечно, основной вопрос выхода из некоторой отсталости. Тот путь, который выбран, был очень тяжелым и огромное число жертв. Но тем не менее, это было главное стратегическое решение, я думаю, от этого трудно уйти.
Михаил Соколов: Я хотел понять: индустриализация сегодня некоторыми авторами подается как насущная, нужная в СССР модернизация, проведенная с немалыми и неизбежными жертвами. Ссылаются на то, что это повторение опыта, например, Петра Первого и так далее. Опять же, если бы большевики не были бы носителями радикальной культуры или у них победило бы менее агрессивное по отношению к крестьянству крыло, существовал какой-то более мягкий вариант, как вы думаете?
Ален Блюм: Трудно переделать историю, но я думаю, что точно эта модель, которая начиналась в начале 30-х, была очень радикальной. Все, что начиналось в 20-е, если бы это продолжилось, ясно, что развивалось бы мягче. Я думаю, все-таки этот вопрос модернизации — общий вопрос. Ясно, что это зависит от политической модели, которая тогда развивалась, борьбы за власть. Это была система, где власть всегда должна защищать себя. Борьба за власть использовала такую модель, чтобы выиграть, люди, которые выиграли, использовали такую модель. Если бы другие люди выиграли, ясно, что могла бы быть другая модель. Это была бы модернизация, но другой тип модернизации.
Михаил Соколов: Играло ли роль психологическое состояние большевистской верхушки? У меня есть ощущение, что на каком-то этапе действительно этот страх, о котором вы сказали, он был очень важен. В каком-то смысле были ли это отношения оккупанта и покоренной крестьянской страны?
Николя Верт: Нет, конечно, страх был, безусловно. То есть мы теперь знаем, насколько в принятии решения 10 съезда в марте 21 года сыграла эта боязнь у крестьянского огромного восстания в Тамбове и не только в Тамбове, и насколько был инструментом голод 21–22 года тоже для смирения крестьянства. И конечно же, тут это очень интересно, потому что меняется в некотором смысле парадигма тоталитарной системы, которая считает, что общество совсем усмиренное. На самом деле архивная революция последних 20 лет показала, насколько вся картина более сложная. Действительно это страшное насилие исходило не только из идеологии, там, конечно, была большая составляющая идеологии, но тоже исходила из очень резкого ощущения правящей верхушки, что она находилась в стране, которая плохо контролируется, особенно огромный крестьянский массив. Это играло огромную роль. Левин говорил об обществе зыбучих песков. Конечно, эта составляющая очень важна, я думаю, чтобы понять суть этого насилия в 30-е и потом 40-е годы и так далее.
Михаил Соколов: Просто в обществе 20 годов, как мне кажется, просматриваются некие группы бывших народников, эсеров, меньшевиков, людей тоже достаточно радикальной и революционной культуры, может быть меньше, конечно, чем большевики, многие из которых выступали за обобществление земли, за какие-то серьезнее реформы в сельском хозяйстве, эксперименты. В принципе, кажется со стороны сейчас, что какой-то компромисс с этими группами мог повести Россию и Советский Союз по более компромиссному варианту, более эволюционному, может быть даже вполне возникновению чего-то похожего на послевоенную титовскую Югославию. Опять же здесь, какую роль сыграла личность Сталина как человека, принимавшего основные решения? Почему другие группы в большевистском руководстве, которые тоже имели отношение к принятию решений, все-таки Сталин в этот момент не был полновластным правителем, в каком-то смысле он был модератором в борьбе этих групп, почему именно здесь ему удалось навязать именно этот сценарий?
Ален Блюм: Я думаю, что есть два аспекта, которые важны, чтобы понимать это. Это личность Сталина и как он думал, что такое власть, как сохранить власть. Ясно, что Сталин мог изменить модель в стране, чтобы сохранить власть. И тогда личность Сталина — это тоже структура власти, это все-таки нужно было, чтобы сохранить власть, выбрать радикальную модель против других, которые имеют власть. Чтобы выиграть против Бухарина, нужно выбрать совсем другой путь.
Михаил Соколов: Чтобы выиграть у Троцкого, нужно было выбрать более мягкий вариант, как казалось сначала.
Ален Блюм: Я думаю, есть историки, которые говорят по-другому, для меня идеология Сталина не очень крепкая, он может изменить идеологию. Его идеология — против Троцкого так, а против Бухарина так и так далее. Суть власти, которая идет в этом направлении и которая верит, что человек как Сталин, которого использовала эта структура власти, он так и делал, и он выбрал радикальные меры. А потом, когда радикальные меры выбрал, невозможно было выйти из системы насилия. Он начинал с насилия и очень сложно выйти из этой системы.
Михаил Соколов: Николя, какое ваше мнение? Все-таки попытки цивилизации большевизма в 20-е годы вот этими группами, о которых я говорил, они принимались, они пытались действовать изнутри через Госплан, через бюрократические структуры, как специалисты, и тем не менее, все закончилось процессами против интеллигентом, шахтинским делом, делом меньшевиков 31 года, Трудовой крестьянской партией мифической, то есть все эти попытки диалога специалистов и социалистов с большевиками пришли к печальному финалу.
Николя Верт: Все три точки зрения в 20 годы крайне интересны. Потому что была такая попытка профессионализации власти. На самом деле Ален очень интересно показал в своей книжке, что эти процессы до 37-го года фактически в области статистики были. И даже конфликт между Орджоникидзе и Сталиным в 37, в самом начале, перед его самоубийством или убийством, конечно, этот конфликт между технократией, которая еще существовала, это не закончилось в 29 или 31 году. Потому что даже среди большевистского руководства было две тенденции — тенденция профессионализма, тенденция бюрократии как государственная структура и партийность, волюнтаризм сталинский и так далее. Противоречия существовали довольно долго — до середины 30-х. Конечно, в конце концов, была победа сталинского направления. Хотя эта проблема существовала в других формах в течение всего сталинского периода, и послевоенного. Например, в области судопроизводства, прокуратуры, как показал Питер Соломон, показывает, что какая-то стабилизация, профессионализация. Даже репрессии в области, не говорю по линии НКВД, но по линии суда, прокуратуры всегда существовали. Эти две линии всегда были.
Михаил Соколов: Если говорить о переломном моменте, о годах великого перелома, опять же хочется понять, получить какие-то объяснения. Насколько связаны эти две линии — индустриализация и коллективизация? Они вроде бы неразрывно сливаются сейчас. А возможна ли была индустриализация без раскрестьянивания, без коллективизации?
Николя Верт: Индустриализация по сталинского варианту нет, конечно. Надо было откуда-то выкачивать средства, и это нас приводит к тому, какая индустриализация. То есть это именно сталинская модель индустриализация, экстенсивная, на человеческих костях.
Михаил Соколов: Военно-промышленный комплекс, естественно.
Николя Верт: Форма освоения природных богатств Севера и таких краев, куда никто самовольно не поехал бы. Это вопрос, который обсуждался на конференции, принудительного труда, модели принудительной индустриализации, освоения, колонизации огромных пространств и для этого надо было, конечно, людей подневольных, это в основном были крестьяне на первом этапе, начало ГУЛАГа, раскулачивание. Это, конечно, экспорт золота, древесины, чтобы получить с Запада технологию. Но что интересно, если подумать, то эта экстенсивная модель развития продолжалась в других формах, но до самого конца Советского Союза. То есть именно никогда Советский Союз в 70-е, в кризисный момент с середины 70-х до середины 80-х не смог перейти на интенсивную модель. То есть тут преемственность сталинизма крайне важна в других формах. Вы были обречены на определенный тип развития, который начался где-то в начале 30-х. Конечно, террор потом спустился намного, но модель развития, которая была выбрана, то есть экстенсивная, на экстенсивное употребление вот этой рабочей силы, на экстенсивное освоение природных ресурсов, она имела пагубный результат, даже, наверное, до сегодняшнего времени.
Михаил Соколов: Ален, вы дополните что-то?
Ален Блюм: Я хочу сказать, что это видно во многих сторонах развития этой страны. Один хороший пример — демографический пример. Ясно, что эта экстенсивная модель вначале может быть эффективна, иметь быстрые результаты. Но эта модель не позволяет изменить направление, адаптироваться к изменению. Это модель 19 века. И когда Сталин начинал эту модель, он уже опоздал. После войны смертность быстро уменьшалась, снова она была очень высока во время голода, террора. Но потом они не могли адаптироваться к новым условиям жизни, к новым технологиям. Это объясняет, почему ситуация до конца Советского Союза и сейчас, почему смертность высока в России до сегодняшних дней. Потому что эта модель не может адаптироваться в измененных экономических, социальных условиях.
Михаил Соколов: Все-таки хочется понять, был ли какой-то ясный план у Сталина этой социальной инженерии на переходе от НЭПа собственно к этому развитому сталинизму. Можно ли увидеть что-то ясное и понятное? Если вспомнить поездку Сталина в Сибирь, там была, насколько я понимаю, простая для начала идея: взять у крестьянства хлеб и направить на нужды строительства, той модернизации, как теперь выражаются, а в результате получилась достаточно стройная система принудительного труда, гигантская высылка крестьянства и империя ГУЛАГа. Был ли план?
Николя Верт: Знаете, события развивались так бурно и быстро, конечно, определенного плана, начиная с 28-го года, не было. Я помню, что писал покойный Виктор Петрович Данилов в предисловии к одному из томов «Трагедия советской деревни», он очень четко обозначил, что все правители принимали решения, не думая вперед надолго. Я думаю, такое было. Нельзя сказать, что он не знал, но все последствия не планировались. Это так же, как для самого плана, который пересматривался каждый месяц, тот же пятилетний план, если считать все варианты, их было очень много.
С другой стороны, культура цифры была очень сильна. Если смотрим раскулачивание, когда комиссия Молотова стала работать в самом начале 30-го года, то уже эти лимиты, сколько выслать — 60 тысяч семей второй категории и так далее, на самом деле все это перевыполнялось в ходе дела с огромными людскими потерями. Самый пример — это первичные депортации кулаков, не знали, куда их деть, просто выбрасывали посредине Сибири, тайги. Никакого экономического результата в первое время не было, все осознавали это, все понимали. Например, в сентябре 30-го года признавали, что только 4% кулаков трудоиспользуются куда-то. Потом в течение 31–32-го года и в дальнейшие урегулировалось в ГПУ и стали более рационально, по их мнению, всех этих людей трудоиспользовать, переходя просто от депортирования в никуда, направляли в определенные угольные шахты, в какие-то новые артели, колхозы и так далее. На самом деле все это развивалось таким путем.
Михаил Соколов: Можно ли говорить о том, что экономика и создание всей этой системы принудительного труда фактически шла за политикой?
Ален Блюм: Я думаю, что все-таки есть два направления. Можно думать, что есть модель развития, а потом можно думать, что есть политическая модель, которая основана на репрессиях. Все-таки первый шаг всегда был страх и репрессии. Почему депортировали людей, не депортировали всех, депортировали тех, которые кажутся опасными. И потом используют их в экономической модели. Для депортации после войны это ясно и даже до войны в Прибалтике. Когда начали депортировать в 41-м году эстонцев, депортировали элиту — это не было для развития советской страны, это было, потому что боялись, что эти люди будут против Советского Союза. После войны, когда депортировали крестьян, все-таки сельское хозяйство в Прибалтике было хорошее в этот период. И было ясно, что модель, которая развивалась после раскулачивания, была неуспешна, все-таки решили поставить такую модель не потому, что это было эффективно экономически, потому что боялись, потому что было сопротивление в этих странах, боялись бандитов или партизан. Первый шаг всегда политический и репрессии. А второй шаг — используем эти ресурсы. Поэтому, я думаю, что это более политически в начале, чем какая-то экономическая идеология.
Михаил Соколов: Господин Верт, ревизионистские историки пытаются доказать, что идеология была не так важна, а получается, что все-таки первична для коммунистического руководства, по крайней мере, в этот период была идеология, то есть решения принимались, исходя из политических схем. Так я понимаю?
Николя Верт: Да, в принципе. Знаете, это вопрос ревизионистской школы, я думаю, в спорах между тоталитарной и ревизионистской были погрешности, ошибки и у той, и другой. У тоталитарной, потому что считали, что общество смиренное, никто не двигается. Ревизионисты недооценивали идеологию и степень насилия. Конечно, политические решения были основные, но это не значит, что это только идеология. Потому что политика отличается от идеологии. Политически принимается в совокупности со многими проблемами и со многими решениями, которые могут иметь не только идеологическое начало, но и самые разные, и личность, и оценка ситуации на определенный момент, разные факторы играют. Чисто идея, что это идеократия, которая сверху, я думаю, что намного все сложнее. Но тем не менее, я согласен с Ален, когда он говорит, что политика репрессивная сыграла большую роль. Я очень рад, что у нас сблизились точки зрения, потому что когда-то, когда я выпустил «Черную книгу коммунизма», Ален считал, что я немножко переборщил, слишком много там репрессий было. Теперь у нас очень сблизились позиции.
Михаил Соколов: То есть еще одно из последствий архивной революции. Факты агитируют сами за себя. Как тогда объяснить появление периода вот этого мягкого сталинизма с 33-го по 35-й, почти 2-й год? Какова была объективная необходимость вот этого отступления, когда жить стало лучше, стало веселее?
Ален Блюм: Это большая загадка, конечно, мы знаем, что масса была споров, старались понять такую короткую оттепель. Олег Левнюк очень, я думаю, ясно показал в своих книгах в середине 90-х, почему надо было маленькую передышку после страшного кризиса. Был огромный кризис на рубеже 32— 33-го года. То есть это действительно самый драматический момент этого времени — голод, голодомор и политический кризис, кризис доверия. Мы знаем через переписку руководителей, насколько серьезный был кризис. Насколько мы знаем, эта очень короткая передышка была кратковременная. На самом деле все заново сыграло с 36-го года, когда стала напряженная международная обстановка с войной в Испании и понятие о ближайшем конфликте международном. И конечно, Большой террор, который положил конец этой короткой передышке.
Михаил Соколов: Какую роль сыграл голод? Вы занимаетесь демографией. Как вы видите ситуцию: это был сознательный элемент управления, нечто, похожее на холокост, геноцид или здесь нечто другое, большую роль сыграли хаотические решения, и это больше похоже на репрессии против социального слоя, крестьянства?
Ален Блюм: Я не очень люблю такие игры словами — геноцид, не геноцид.
Михаил Соколов: По крайней мере, в Украине говорится, что это геноцид.
Ален Блюм: Когда я говорю, что не нравится, я думаю, что дебат другой. Я думаю, Николя тоже изучал это, я думаю, что не делали голод сознательно, чтобы убить Украину. Голод в других регионах был и так далее. Но то, что во время голода думали: хорошо, это будет ослаблять украинцев — это другое. Голод был результат коллективизации. То, что коллективизация была особенно в этих регионах, потому что это были богатые регионы — это ясно. Но потом то, что Сталин и другие использовали это — это тоже ясно. Они использовали эту ситуацию, чтобы развязать борьбу против украинцев. Но использовали только. Я думаю, что сравнение с холокостом невозможно. Холокост — это уничтожение всех евреев. Результат такой: в Восточной Европе, в Центральной Европе был еврейский мир тогда, до сегодняшних дней этого мира нет. Украина есть. Поэтому это два процесса, которые очень разные. Голод был страшный, голод убил 6 миллионов в Советском Союзе — это ужасно. Число людей убитых голодом такое же, как и во время холокоста. Но это не те же самые процессы.
Михаил Соколов: Николя, ваш взгляд на голодомор и голод в Советском Союзе? Все-таки это был инструмент социального управления или такая катастрофа?
Николя Верт: Не только катастрофа. Это очень сложный вопрос, потому что голод был в разных регионах. Сложно суммировать, потому что сейчас идет очень интересная историографическая полемика между украинскими и российскими историками, как мы знаем. То есть вопрос есть такой: были ли только региональные варианты голода Казахстан, Россия, Поволжье, Украина или же украинский голод радикально отличался своей сущностью. Это очень трудно ответить быстро. Мне кажется, что на Украине была очень своеобразная ситуация, но она связана с национальным вопросом. Можно так сказать, что в Казахстане был голод в относительных цифрах намного хуже, чем на Украине, там треть населения умерла в голоде, а на Украине лишь 12–13%. Но процесс был совсем другой.
В Казахстане — это сложная колониальная провинция, Сталин не интересовался с политической точки зрения Казахстаном. Там проходили очень сложные процессы, это началось с коллективизации, инвентаризации полукочевых, кочевых. Но в политическом плане это никого не интересовало. А Украина — это был политический большой вопрос, это мы знаем из переписки Сталина и Кагановича и так далее, которая была опубликована. То есть в определенный момент, с лета 32-го года, я с этой точки зрения согласен со всем, что писала Андреа Грациози по этому поводу, из общего голода Советского Союза стал выделяться по политическим мотивам, по политическим причинам украинский голод.
Но с другой стороны, конечно же, Алан совсем прав, когда они говорит, что процессы холокоста и голодомора очень разные. Тем не менее, конечная цель голода на Украине — это сломать сопротивление крестьянства, которое считалось Сталиным хребтом национального вопроса. Что интересно, я сейчас пишу статью о проблеме помощи голодающим, то есть все забрали и как только все забрали, начали с 7 февраля 33-го года выпускать маленькую помощь. Что значит эта помощь, почему эта помощь? Это очень интересно, когда смотришь в деталях эту помощь. Потому что на самом деле она показывает суть этого. Надо было показать крестьянину, что государство сильнее. Помощь была ориентировочна, она очень слабая была, но она была очень ориентировочна, получали в первую трактористы, потом весь персонал. Проблема была в том, что надо было новый урожай делать с 33-го года, сломали ужасным образом сопротивление крестьянства, а потом начали потихонечку выдавать тем, кто социально нужные люди. Опять-таки показывает огромную разницу с холокостом. Это было направлено на слом национально-крестьянского сопротивления, которое было действительно реальным, последним, можно сказать, сильным сопротивлением сталинскому режиму.
Михаил Соколов: Мы подходим опять к этой дате, можно сказать, что Большой террор начался скорее не в 37-м, а в конце 36-го года. Хочется услышать современный взгляд на эту ситуацию. Как понять логику Сталина и его команды, зачем нужно было уничтожить более полумиллиона человек в течение двух лет в ситуации, когда сопротивление крестьянства сломлено, понятно, что 21-й год не повторится, в городах тоже ситуация не как в 18-м году, никакой реальной оппозиции вроде бы не существует, и тем не менее, происходит такая катастрофа Большого террора?
Николя Верт: Историография показала за последнее время много нового переосмысления Большого террора. Раньше, когда писали 20 лет тому назад, это были в основном репрессии против элиты. Сейчас мы знаем, что было два пути Большого террора — политический, чистки аппарата, чистки профессионально-бюрократического аппарата, который сомневался, не принял полностью весь спектр сталинизма, и социальная инженерия. Опять-таки возвращаемся к ощущению верхушки сталинской о том, что не добили врага, еще есть беспорядок. Это ощущение было очень сильное, несмотря на то, что да, сломали крестьянское сопротивление. Но тем не менее, идея соцвредных элементов, которые еще существуют, их надо определено и окончательно добить раз и навсегда, как писал Ежов в преамбуле знаменитого страшного приказа НКВД 00447.
И конечно же, эта идея пятой колонны была сильна у руководства. Опять-таки Олег Витальевич Левнюк показал, насколько важна была эта идея где-то это с конца 36-го года в сталинском менталитете. Испанские события наложили большой отпечаток на эту идею пятой колонны. Это была последняя решительная акция, опять-таки проводилась, когда было раскулачивание. Не надо забывать, что примерно 20% спецпереселенцев просто удрали из спецпоселков. Был хаос и решили, в их представлении, что вроде враги повсюду и надо от них окончательного избавиться — это часть Большого террора. А другая часть, конечно, политические чистки. Было такое слияние этих двух репрессивных страшных актов.
Михаил Соколов: Как эти чистки и Большой террор, на ваш взгляд, повлияли на настроения населения перед войной, как это повлияло на то, что происходило, в конце концов, с режимом в начале войны?
Ален Блюм: Как сказал Николя, Большой террор — это процесс, все, что происходило во время Большого террора, уже происходило намного меньше и в предыдущий период. Чистки были, депортации были и так далее. Сам террор — это что-то экстремальный способ, который все использует вместе в течение двух лет. Это концентрирует все, что было сделано до того. Все-таки мне трудно ответить прямо на вопрос, но, по-моему, это влияло очень сильно на настроение населения. Все люди, например, даже элиты и не элиты, были те, которые были затронуты политическими репрессиями, а другие нет, у каждого был какой-то знакомый, которого террор убил или арестовал. Большой террор показывает, до какой степени могут идти репрессии. Думаю, что после Большого террора люди начали бояться всегда. Поэтому настроение поменялось в этот период, было ясно, что все могут быть жертвой этого режима. И тогда это влияет очень сильно на настроение всего населения, и крестьян, и народа, и элиты. Это сломало общество очень сильно до войны. Я думаю, что это объясняет во многом, сколько жертв было с советской стороны во время войны. Общество не было готово к этому.
Михаил Соколов: Какие темы вы сейчас считаете белыми пятнами, которые необходимо заполнить информацией?
Ален Блюм: Об этом периоде сложно сказать. Я думаю, что сейчас все важные темы были в каком-то смысле изучены. Более понимают внутренние механизмы власти, внутренние механизмы общества, идут глубже. Во-первых, механизм власти, кто сделал и для чего. Пока не очень ясно настроение населения, почему люди верили в сталинизм. Очень много вещей нужно понимать. Я думаю, что это все-таки главное направление новых исследований, чем общие вопросы. Сейчас было много прогресса, успехов в изучении, и нельзя сказать, что эту часть истории не знают — это не так.
Николя Верт: Я согласен, конечно. Мы видим, это была четвертая конференция, и все отмечали, что все-таки мы идем, много было сделано за эти годы. Я бы сказал, что, например, судя по нашим молодым специалистам, аспирантам, они много работают по периоду войны, очень много интересного можно еще найти. Послевоенный сталинизм — тоже интересный период. У вас Елена Юрьевна Зубкова, очень сильную школу она начала. Я думаю, что действительно историографический фронт — это больше война и послевоенный сталинизм и хрущевское время.
Ален Блюм: Все-таки хочу дать пример: удивительно, во Франции нет белых пятен французской истории.
Михаил Соколов: Были ли пятна?
Ален Блюм: Колониальные войны — все-таки еще есть пятна. Такая серия показывает очень положительный эффект не только для русских исследователей, но и для иностранных. Это показывает, что белые пятна уже не так белые, может быть серые.
Николя Верт: Сто книг — это просто невероятно.
Чтобы оставлять комментарии, необходимо войти или зарегистрироваться